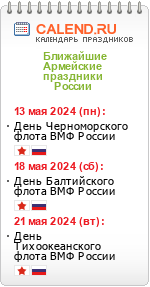Re:
Красная Армия отступала. 31 августа советские войска оставили Киев. 20 сентября деникинцы захватили Курск, 6 октября — Воронеж, 13 октября — Орел. Страницы одесских деникинских и буржуазных газет пестрят заголовками: «Жмеринка в наших руках», «Прорыв на большевистском фронте», «До Москвы — 500 верст», «До Москвы — 300 верст», «В бинокль уже видна Москва». Американская газета «Нью-Йорк Таймс» писала в те дни: «Добровольческая армия врезалась в самое сердце Советской России. Уже видны златоглавые верхушки московских колоколен».
В этот период в Одесском партийном комитете возникли споры о методах борьбы. Леонид Тарский, Александр Гордон и Павел Китайгородский давали неправильную оценку сложившейся обстановке. Они утверждали, что наступила долгая ночь реакции, что господство Деникина на Украине задержится надолго. По их мнению на Украине отсутствует достаточная пролетарская база, на которую должна опираться Советская власть. Этим объяснялось и отступление Красной Армии. Тарский и Гордон считали, что надо временно отказаться от «чистой» формы Советской власти и осуществить что-то «среднее» между диктатурой пролетариата и петлюровщиной.
Большинство членов комитета не разделяло этих взглядов.
— Мы на грани нового подъема и побед,— говорила на одном из заседаний комитета Елена Соколовская.— Скоро Красная Армия, энергично поддержанная украинскими рабочими и крестьянами, прогонит врага к морю, и там он найдет свой конец. Наша задача — идти в рабочую и крестьянскую среду, к солдатам-белогвардейцам и разъяснять им неотвратимость краха деникинщины. Свернуть агитацию — это значит превратиться в кроликов, которых с удовольствием проглотит деникинский волк.
Дискуссия обычно заканчивалась выступлением Елены Соколовской. Она глубоко анализировала все высказанные точки зрения, показывала несостоятельность одних взглядов и жизненность других. Соколовская обладала удивительной способностью органически сочетать местную практику с общепартийными задачами, четко определять пути и методы деятельности подпольной коммунистической организации. Работнику, который увлекался широкими планами и ставил невыполнимые задачи, Соколовская резко бросала: «Вы руководствуетесь не расчетами, а личными чувствами» и убедительно показывала нереальность его планов.
«Больше всех Гордону и Тарскому доставалось от Елены и Нюры. Жалко было смотреть на этих в общем-то очень хороших, честных работников. От их «теории» оставалось только «мимолетное видение». Да они и сами потом признали свои ошибочные взгляды» — писал об этих политических спорах Логгинов.
Правильная оценка утверждений Гордона и Тарского имела принципиальное значение. От этого зависела тактика большевистской партийной организации. Если бы победили взгляды меньшинства, рабочий класс Одессы был бы уведен в сторону от революционной борьбы с Деникиным.
Общегородской комитет продолжал укреплять районные комитеты и заводские коммунистические ячейки. На 25 предприятиях уже работали уставные партийные организации, где регулярно проводились партийные собрания. На других заводах действовали партийные группы. Аресты, проводившиеся белогвардейской контрразведкой в октябре, почти не затронули заводские комячейки.
Глубокая конспирация и пролетарская спайка помешали провокаторам проникнуть в рабочие коллективы. На отдельных заводах аресты продолжались.
Комитету пришлось много внимания уделять коллективу судоремонтного завода РОПИТ. Здесь работала сильная подпольная организация, во главе которой находились рабочие-большевики Григорий Смагин и Яков Морозов. В цехах имелись партийные группы. В котельном цехе подпольную работу вели Владимир Рудницкий, Степан Дзикунов, Григорий Мельничук. В модельном цехе работали Степан Коскин, Владимир Чумаченко, Кузьма Зимбровский, Григорий Сапельников. Василий Петрович и Василий Филюшкин работали в плотничьем, а Никита Позняков и Петр Кругликов — в малярном цехе.
На заводе пользовались влиянием меньшевики и эсеры. Часть кадровых и особенно сезонных рабочих и служащих находилась в плену соглашательской идеологии.
Еще до прихода белогвардейцев в Одессу меньшевикам удалось провести митинги в заводоуправлении и в отдельных цехах, на которых высказывались антисоветские взгляды.
Заводская партийная ячейка находилась в сложных условиях: будучи в подполье, она не могла открыто выступать против взглядов и действий соглашателей. Меньшевикам иногда удавалось привлечь на свою сторону и отдельных кадровых рабочих. Так, с помощью соглашателей деникинцам удалось уговорить слесаря Николая Петрова и котельщика Федора Шевченко войти в делегацию для осмотра бывшего помещения ЧК, в котором белогвардейцы демонстрировали мнимые «зверства» большевиков.
Примечательно, что оба «делегата» с треском провалились на собрании рабочих завода, где они сообщили о всем виденном в здании ЧК.
— Чем вы можете доказать, что в здании ЧК находились расстрелянные рабочие и крестьяне?— спросили
у Петрова и Шевченко.
— Вот видите этот мундштучок, простой, кто с него курил? Я нашел его в кармане расстрелянного,— отвечал Шевченко.
— А вот видите крестик? Я его снял с трупа крестьянина,— отвечал Петров.
— А не мог кто-нибудь вложить мундштук в карман расстрелянного и повесить крестик на труп!— спросил старший станковой плотничьего цеха Алексей Винниченко.
«Делегаты» ответили:
— Нет, нам сказали, что трупы привезли с крестиком и мундштуком.
— Откуда привезли? Вы же говорили, что эти трупы остались в помещении ЧК после ухода большевиков? — снова спросил Винниченко.
Ответа не последовало — Шевченко и Петров растерялись.
— А как вы установили, что видели трупы расстрелянных именно большевиками? А может, их застрелил кто-нибудь другой? Может, налетчики? — спросил один рабочий, хотя остальные поняли, что он хотел сказать — «не белые ли»?
Петров и Шевченко в один голос заявили:
— Это дело рук ЧК. Нам так сказали.
Все было настолько шито белыми нитками, что рослый котельщик Архип Демянко, стоявший рядом с трибуной, не выдержал и бросил в лицо горе-делегатам:
— Эх, вы! Комиссия! Видно, шо Гапка млинці пекла, бо ворота в тісті. І брехати до діла не вмієте.
Рокот одобрения пронесся по заводской площади. Присутствующие понимали, что все эти «ужасы ЧК» — фальсификация.
О том, как на заводе РОПИТ проходило собрание, написали даже либерально-буржуазные газеты. Они не могли скрыть того, как рабочие встретили деникинскую провокацию. «Одесский листок», журналисты которого немало написали пасквилей на Советскую власть, набрался «смелости» и опубликовал анекдот:
— Слушайте, вы знаете печальную новость?
— Какую?
— Большевики расстреляли Циперовича.
— Да что вы говорите? Боже, какой ужас, какой ужас!
— Слушайте, только вы потише говорите об этом.
— Почему?
— Циперович стоит сзади меня, он еще сам ничего не знает...
На второй день после собрания белогвардейцы арестовали котельщика Демянко. Это был молодой рабочий, недавно появившийся на заводе. На вопросы следователя отвечал с юмором. А все вопросы были одного направления: кто является застрельщиком среди рабочих? Кто читает газету «Одесский коммунист»? О чем толкуют рабочие? Ничего не добившись от Демянко, следователь избил его.
Ропитовцы послали в контрразведку двух рабочих. Их принял капитан Добровольский. Узнав, что они пришли ходатайствовать об освобождении Демянко, Добровольский закричал:
— К стенке всех вас! Кто вам бумагу подписал? Покажу я вам, как делегации посылать... Вы оба арестованы.
Прибыв в Одессу, Деникин пожелал встретиться с рабочими. Одесские власти с ног сбились, но не могли найти подходящего завода. Всюду рабочие враждебно встречали известие о приезде Деникина. Волей-неволей деникинцы снова обратились к меньшевикам на РОПИТ. Офицеры целыми днями сновали по заводу, о чем-то совещались с администрацией. В цехах появились меньшевик Сухов и эсер Кулябко-Корецкий.
Наступил день приезда Деникина на завод. От проходной до места встречи через весь заводской двор шпалерами выстроились офицеры. Генерал с трудом поднялся на трибуну и произнес небольшую речь. После него выступил Николай Петров. Он говорил: «Требовать нам ничего нельзя, все нужно просить. Как сказано в евангелии: стучите и вам отворят, просите и вам дадут». Во время выступления Деникина рабочие стали расходиться. Деникин сразу определил настроение рабочих и тоже поторопился уйти. Уже в гостинице «Лондонская» на банкете Деникин бросил фразу: «Какой-то неприветливый народ, эти одесситы».
Через несколько дней подпольный комитет, обсудив сообщения Смагина и Морозова о положении на заводе, решил разоблачить меньшевиков. Эту задачу комитет возложил на редакцию газеты «Одесский коммунист».
Большевики стали более решительно изобличать сотрудничество меньшевиков с белогвардейцами, показывать, что они, предав интересы рабочих, служат буржуазии. «Языкочесы» (так рабочие называли меньшевиков) прибегли к недозволенным в условиях подполья методам борьбы, угрожая обратиться за помощью к властям, раскрыть большевистскую организацию. В разгар борьбы с меньшевиками контрразведка арестовала группу передовых рабочих завода РОПИТ и в их числе Григория Смагина. Но организация большевиков продолжала работать, у нее был крепкий актив в цехах, а соглашатели не имели уже никакой опоры в рабочем коллективе.
На 2-й Заставе находилось очень важное предприятие — артиллерийские мастерские с артскладом. Работали там в основном демобилизованные, квалифицированные мастеровые. Симпатии их были на стороне большевиков. Среди них имелись и коммунисты. Об этом в конце августа сообщил руководителю одесского подполья Владимиру Логгинову рабочий-слесарь Иван Бровяков, член партии с 1917 года.
В мастерских, или в артдепо, как они тогда назывались, ремонтировались бронепоезда, орудия, пулеметы. В беседе с Бровяковым Логгинов изложил меры по выводу этой боевой техники из строя.
Несколько дней спустя в артдепо стали являться высококвалифицированные токари и слесари с просьбой принять их на работу. Так, в сентябре поступили в артдепо Иван Поздняков («Андрей»), Дмитрий Морозов («Мороз»), Илларион Ильчук («Ларик»), Михаил Скороход, Даниил Инде — все коммунисты, получившие задание Логгинова. Создав подпольную ячейку, Бровяков установил контакт с рабочими-боротьбистами — Калининым, Огородниковым и Канунниковым. Вместе с ними вокруг большевистской ячейки сгруппировались беспартийные рабочие. Настроение у всех было боевое, рабочие не хотели работать на белогвардейцев. «Одесский коммунист» переходил из рук в руки, все жадно вчитывались в сводки с фронтов.
Авторитет комячейки рос. По ее заданию рабочие прицельно-оптического отдела незаметно сбивали прицелы на орудиях. Иван Поздняков и его товарищи чуть-чуть смещали рамку прицела, и никакая комиссия не могла обнаружить дефекта. Точности же попадания снаряда из такого орудия нельзя было ожидать. В ноябре Дмитрий Морозов подложил гайку между поршнем и верхней крышкой цилиндра дизеля 45НР. При пуске двигатель был разбит, в результате токарный цех вышел из строя на десять дней. В первых числах декабря в арт-мастерские для срочного ремонта поступил бронепоезд «Генерал Мамонтов». Морозов и Михаил Скороход насыпали наждаку в подшипники и отпустили гайки в рессорах. Когда бронепоезд с ремонта ушел на пробу на Сортировочную—Пересыпь, то после первых же выстрелов поломались рессоры и поплавились подшипники. После того, как отремонтированные орудия принимались, по ночам к ним проникали рабочие, выпускали масло из компрессоров, отпускали гайки. Илларион Ильчук и Даниил Инде наловчились умело выводить из строя электрооборудование. Они вбивали в обмотку гвозди без шляпок, а обнаружить это трудно было. По несколько дней простаивали токарные станки — их ходовые винты оказывались погнутыми.
Вся администрация артиллерийских мастерских состояла из офицеров, которые и не подозревали, что рабочие сознательно портят оборудование и выводят из строя орудия, бронеавтомобили и бронепоезда. Плохое качество работ объяснялось отсутствием хороших специалистов. Отдельные офицеры рады были плохому ремонту— им не хотелось уходить на фронт. Нередко даже явную порчу орудия или пулеметов в броневике они рассматривали как случайность, никакого следствия не требовали.
Как-то вечером из артсклада грузили в вагоны вооружение и боеприпасы. Было это в январе 1920 года. Закончив погрузку, рабочие скипятили чай. Вагоны охранял офицер. Рабочие пригласили его попить чайку. Он охотно согласился. А тем временем группа рабочих перетащила из вагона в подвал разрушенного дома 7 пулеметов и 35 винтовок. Вход в подвал завалили камнями.
Вот что рассказывает член подпольной комячейки артдепо Д. А. Морозов:
— Работал я в то время слесарем-мотористом. Не только коммунисты, но и многие рабочие понимали, что нам надо все делать, чтобы продукция артиллерийских мастерских не доходила до фронта, а если и доходила, то с опозданием. Чем подольше задержится выполнение заказа деникинцев, чем хуже будет качество работы, тем лучше для Красной Армии. Мы ставили перед рабочими вопросы: на кого мы работаем? Для какой цели выпускаем оружие? Нам даже не приходилось отвечать на эти вопросы, каждый понимал куда идет оружие и против кого оно направляется. «Одесский коммунист» здорово нам помогал. Его мы вкладывали в рабочие ящики, и ни одного не было случая, чтобы рабочие отказались от нашей газеты, или выразили недовольство. Наоборот, обижались, если ее не было.
Через регистраторшу Кузнецову и телефонистку Домени, которые работали в конторе мастерских, узнавали о важных разговорах офицеров по телефону, доставали бланки удостоверений со штампами и печатями артдепо. Все это передавалось в парткомитет.
Были у нас свои люди и на складах. Они работали кладовщиками и помогали нам добывать динамит и бикфордов шнур. Бровяков и Поздняков передавали эти боеприпасы в областной военно-повстанческий штаб.
За несколько дней до вступления Красной Армии в Одессу на рабочем митинге, проведенном нелегально, была поставлена задача: всем вооружаться, захватить мастерские и склады, ничего не дать вывезти. Рабочие сдержали свое слово. 5 вагонов винтовок и пулеметов, 12 трехдюймовых скорострельных орудий и 4 гаубицы были задержаны, не попали белым. За день до бегства белогвардейцев меня назначили комендантом артмастерских. Для вооружения рабочих мы выдали винтовки.
Тесные связи были у губкома партии и с другими заводскими партийными ячейками. На городской электростанции по улице Московской с парткомом был связан большевик Иван Будрик и работница Шура Кулакли. Они распространяли «Одесский коммунист». Через них комитет держал связь с ревкомом, находившимся в Усатовских катакомбах. На заводе Беллино-Фендериха работал большевик Петр Цымбал. Его квартира была явкой, где хранились деньги политического Красного Креста. Здесь по вечерам Николай Александрович и Цымбал придавали новеньким деньгам вид старых. Делалось это для того, чтобы не вызвать подозрений у офицеров и контрразведчиков, когда они брали взятки за освобождение арестованных подпольщиков.
На заводе Ровенского подпольную организацию возглавлял Филипп Александрович, бывший председатель Одесского военно-революционного трибунала, участник революционного движения с 1905 года.
В первый день прихода белогвардейцев он был задержан офицерами из отряда, разместившегося в гостинице «Континенталь» (фиктивная, или как тогда называли «самочинная» контрразведка). Офицеры отобрали у Александровича 2000 рублей и отправили в тюрьму. Через 3—4 дня ему удалось освободиться (по документам он являлся английским подданным, хотя таким не был). За два с половиной месяца (13 ноября он был снова арестован) Александрович провел большую работу.
Ни один заказ деникинцев не выполнялся заводом в срок.